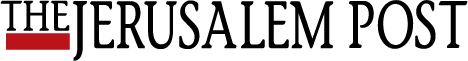Израильские дети кошмарны.
То есть они, конечно, милые, красивые и раскованные ребята, но не приведи Бог оказаться вам в автобусе на заднем сидении в окружении пяти-шести этаких симпатяг. Полагаю, самым сильным вашим чувством на протяжении всей поездки будет чувство благодарности Судьбе за то, что вы состоите членом больничной кассы.
Да нет, ничего особенно злостного и преднамеренного, ничего кровожадного у них и в мыслях нет! То, что вас крепко потопчут, так это просто они вскакивают, непоседы, и прыгают, словно кенгуру в прерии, по сидениям. Могут плюхнуться к вам на колени, и задрав вверх ноги в кроссовках сорок второго размера, очень непосредственно рассмеяться. Просто они веселые и раскованные.
То, что вы оглохнете на ближайшие семь лет жизни — это тоже пусть вас не смущает. Потому что никто специально, из преступных побуждений, вас не травмировал. Да, наши дети любят петь исступленным транспортным хором, весело визжать на запредельных звуковых колебаниях и орать, как пятьдесят иерихонских труб, собранных вместе. Да что там говорить: просто они веселые и раскованные.
Представьте себе: вы приезжаете из, мягко говоря, непростой страны — России, где не последней проблемой является проблема молодого поколения: преступность малолетних, жестокость подростков, потеря нравственных ориентиров...ну, и прочие прелести. Это так, конечно. Но все-таки...Если не касаться крайних случаев, следует признать, что в России все же существует ...как бы это выразиться поточнее... субординация поколений, некое возрастное расстояние, разделение круга тем, разграничение отношений. Да что там говорить — не нами сказано впервые: отцы и дети! Скажем проще — место в трамвае балбес старухе все-таки уступит. А не захочет — ему укажут, да еще пристыдят.
Здесь, в Израиле, такой возрастной субординации не существует в принципе. Десятилетний мальчик будет разговаривать с вами, как со своим сверстником. И не только потому, что в иврите нет обращения к человеку на "вы". Ваш почтенный возраст ни в коем случае не помешает мальчику делать и говорить то, что он считает нужным. И вообще — ваш возраст отнюдь не основание для ущемления его права получить от жизни все удовольствия.
Это не хамство. Это — следствие брутальности всего общества. Одно важное добавление: все вышесказанное не исключает приветливости, и даже дружественности, и даже фамильярности, — как дополнительного оттенка всеобщей простоты.
Спустя несколько недель после приезда я в замешательстве стояла посреди улицы Яффо — разыскивала какую-то организацию — задрав голову, читала по складам названия на табличках.
— Есть проблемы? — пропищал кто-то подо мной. Я опустила взор. Клоп лет девяти, худенький, носатый, этакий иерусалимский Буратино покровительственно и спокойно смотрел на меня снизу вверх, явно собираясь руководить моими действиями, если я попала в затруднительное положение.
— Что ты, никаких проблем! — удивилась я, и он кивнул и побежал по своим делам.
А я смотрела ему вслед и думала — с каким вопросом мог бы ко мне на московской улице обратиться его сверстник? "Тетенька, который час?", или спросить — как найти такую-то улицу, или — что крайне редко случалось — выклянчивать у прохожих медь ("тетенька, я деньги потерял, до дома доехать не могу...") — но это особо предприимчивые и артистичные, я таким всегда давала деньги — за талант.
Но — с покровительственным спокойствием интересоваться — не нужна ли взрослому человеку помощь? С какой стати? Ему бы в голову не пришло переступать эту субординационную черту.
И другая картинка.
Еду в пустом автобусе. Кроме меня в салоне только мальчик лет десяти — коротко стриженный, со скучающей рожицей. Он полулежит, вытянув ноги на противоположное сиденье. Я впервые еду к друзьям на их новую квартиру и боюсь проехать нужную остановку. Поколебавшись, решаюсь спросить у мальчика.
Две-три секунды он изучает меня, не снимая ног с сиденья, не меняя ни позы, ни выражения лица. Думает? Не знает? Знает, но не желает ответить?
Наконец, качнув кистью руки, расслабленно свисающей с приподнятой коленки, он говорит мне лениво, но вполне доброжелательно:
— Спроси у водителя, беседэр?
И я — делать нечего — хватаясь за поручни, бреду к водителю, выяснять — на какой остановке мне надо выходить. После чего долго размышляю о юном паршивце, пытаясь проникнуть в ход его ленивых мыслей, угадать мотивацию поступка и предположить причины, по которым он... и т.д.
А между тем, скорее всего, невинное дитя просто не знало — на какой остановке следует выходить этой тетке странного, как и все "русские", вида. Его российский сверстник повел бы себя иначе. Он бы сказал "не знаю"; тот, кто повоспитанней, сказал бы "извините, я не знаю"; интеллигентный мальчик из хорошей семьи попытался бы помочь, спрашивая у других пассажиров. Скорее всего, мне бы все равно пришлось обратиться к водителю. Что и посоветовал сделать юный израильтянин — без лишних слов и ненужной суеты — с какой стати суетиться? А в сочетании с обращением на "ты" все это и дает тот непередаваемый эффект особого левантийского хамства — впечатление, складывающееся не из грубых слов, а из этой лени, нежелания суетиться, будь перед ним хоть Мессия, на белом осле въезжающий в Иерусалим...
Так вот, — израильские дети...
Бедные бывшие советские учителя, вызубрившие здесь иврит и сдавшие сложный экзамен на право преподавать...Не все они, добившиеся таким трудом этого права, остаются работать в средней израильской школе. Не в силах вынести душа советского педагога этого свободного разгуливания по классу посреди урока, этого полуприятельского-полунасмешливого обращения ученика к учителю, этого гипертрофированного и тщательно оберегаемого всем обществом чувства личной свободы и человеческого достоинства каждого сопляка.
А по уху — за наглость — не желаете ли, господин сопляк — по системе Макаренко?
Нет, не желает, с Макаренко незнаком, а буде случится (не дай Бог!) что-то вроде этого, то плакала ваша педагогическая поэма вместе с изрядной суммой в шекелях, которую вы, по решению суда, уплатите в качестве штрафа родителям бедного двухметрового крошки.
Это твердо знает каждый.
Разговор с моим десятилетним племянником Борей:
— Сегодня такой трудный урок был по математике... Хорошо, что я успел с доски все списать. Мне все время Рахель мешала. Заслоняла.
— Надо было попросить ее...
— Я и попросил. Крикнул: "Рахель, да отойди, наконец, мешаешь!!" И все переписал.
— Рахель — это девочка из твоего класса?
Боря (удивлен моей тупостью): — Да нет, это учительница математики!
Известный израильский писатель говорит с грустной усмешкой:
— Мой отец звал моего деда "Аба-мори" (Отец, учитель мой)... Я звал своего отца просто — "аба"... Мой сын зовет меня — Габриэль...А его сын, вероятно, будет подзывать его вот так: — и писатель прищелкнул пальцами, — жест, каким подзывают на Востоке слугу.
Израильтяне очень любят своих детей. До неприличия. Во вред всяческому благоразумию. Причем, по моим наблюдениям, отцы более нежны к детям, чем матери, и больше времени посвящают чадам. И более щедры на проявления чувств — не стесняются прилюдно сюсюкать, обнимать, тискать своего ребенка. Придешь в любую контору — будь то бюро по продаже компьютеров или министерство образования — на стене за спиной чиновника (цы) как в российской деревне прикноплены многочисленные фотографии возлюбленных отпрысков в разных ракурсах, возрастах и на разных средствах передвижения — от трехколесного велосипеда до родительской "хонды".
Самое распространенное обращение к ребенку: "мами", что можно перевести, как "мамуля", "мамуся". Повторяю — не ребенок обращается так к матери, а мать (или отец) к ребенку. А поскольку даже в секулярной среднестатистической израильской семье детей, как правило, трое— четверо, обращение это с годами так въедается в речь, что порой заменяет собой "господина" и "госпожу". Например, на днях в банке чиновник, разъясняющий мне разницу между двумя сберегательными программами, говорил раздраженно:
— Я тебе в третий раз объясняю, мами, на этом ты много не выиграешь.
Чиновник был моим ровесником.
Однажды на рынке я слышала, как пожилая женщина сказала торговцу, заломившему за бананы слишком дорогую цену: — За такие деньги, мами, продай эти бананы своей бабушке, да будет благословенна память ее.
Но я отвлеклась.
Итак, израильские дети.
Их балуют с самого рождения. Лет до пяти они сосут пустышку. Нередко можно наблюдать, например, в автобусе, как вполне разумный трехлетний хлопчик, вынув изо рта соску, звонко объясняет маме или сестре разницу между "субару" и "мицубиши", а закончив тираду, удовлетворенно водворяет соску на место.
Что касается такого святого дела, как высаживание младенца на горшок, то об этом и вовсе здесь не беспокоятся, благо есть такая замечательная вещь, как одноразовые подгузники. Ребенка не будят ночью, чтобы он не надул в постель. Он и дует. Дует и в дальнейшем. Вообще, мне самой интересно знать — на каком этапе "мами" приучается к общепринятому пользованию унитазом.
И вот этот облизанный заласканный "мами", едва вынув соску изо рта, идет в школу, где его не слишком нагружают уроками, развлекают и оберегают.
Хвалят! Это очень важно. Вам объяснит это любой школьный психолог.
На днях мне пришлось-таки побывать на родительском собрании в школе, где учится моя восьмилетняя дочь. Собственно, собранием это назвать нельзя, поскольку педагог встречается с каждым родителем с глазу на глаз и беседует, проникновенно объясняя папам-мамам, какое драгоценное чадо им повезло родить.
Я увиливала от таких "бесед" весьма успешно на протяжении полугода, поскольку объелась ими, пока моя дочь (незаурядная, на мой взгляд, бездельница и растяпа) училась в первом классе. Но тут получаю особое приглашение явиться вместе с дочерью! Записка сопровождена рядом восклицательных знаков.
Я не то чтобы струхнула, но, признаться, озаботилась. В указанный день в названное время, разбросав важные дела и отменив две важнейшие для меня встречи, я предстала перед учительницей. Она была строга со мной необычайно. Я добиваюсь встречи с тобой целый год, сказала она, как ты можешь жить, не зная, что происходит с твоей дочерью?
Тут, конечно, я обмерла. Как это не знаю, что происходит, испуганно пролепетала я, слава Богу, вижу ее каждый день, проверяю тетрадки. А что происходит?
А то происходит, сурово ответила она, что ребенок обделен теплым словом, сказанным в присутствии родителей. Целых полгода она не слышит о себе ничего хорошего. Нет, конечно, я все время хвалю ее в классе, чтобы она не испытывала дискомфорта, но этого явно недостаточно!
После этих слов учительница выглянула в коридор, где подпирала стенку моя страшно довольная девица и, зазвав ее в класс, заговорила торжественно и проникновенно.
Хава — прекрасная девочка, сказала она, лучшая ученица в классе. Не потому, что лучше всех учится, а потому, что м о ж е т учиться лучше всех. Более способной девочки я не встречала за все пятнадцать лет работы в школе...
И т.д, и т.п... Признаться, я сначала сама обалдела и развесила уши. То что моя дочь — девка способная, я и сама знаю, других, что называется, не держим. Но от сыплющихся и сыплющихся на меня превосходных степеней по поводу ее талантов, я, честно говоря, оробела и минут десять зачарованно выслушивала всю эту чепуху.
Не страшно, продолжала учительница, что наша чудная девочка не всегда готовит дома уроки. Ничего, что она отвлекается на занятиях и почти все время сидит с отсутствующим видом. Не беда, что она забывает дома карандаши, ручку, тетради и однажды даже пришла без портфеля. Все это преодолимо, потому что более прекрасной по своим задаткам ученицы просто нет в школе.
Словом, я поняла — что мне делать. И на обратном пути из школы "прекрасная ученица" прямым текстом получила по первое число: и за то, что уроки не готовит, и за то, что все забывает, и за отсутствующий вид и за отменные способности. Пропал "воспитательный момент" израильской училки. Все-таки, я хоть и еврейская мама, но российской закваски.
О том, какое ненавязчивое образование получают школьники в начальной израильской школе, ходят анекдоты. Хотя, что там анекдоты! Жизнь, как известно, ярче и смешнее любого вымысла. Мой знакомый, преподаватель игры на ударных инструментах, рассказывает: — Есть у меня ученик лет тринадцати, паренек способный. Недавно объясняю ему на уроке, когда надо вступить правой рукой на барабане. Он все путает и путает. Я говорю: "…правой, понимаешь, это надо играть правой! Ты что, не знаешь, где правая рука?". А он вытянул так перед собой обе ладони, смотрел-смотрел, и говорит вдруг с таким искренним изумлением: — "Так, они ж одинаковые! Как их отличишь!"
Надо сказать в израильском обществе — в средствах массовой информации — постоянно муссируется вопрос о необходимости реформы образовательной системы. Время от времени в газетах публикуются разносные статьи и обличительные интервью. Общество клокочет: вся образовательная система прогнила, разваливается, никуда не годится. Тем не менее, поступая в университеты и технионы, абитуриенты — вчерашние выпускники израильских школ — успешно проходят сложнейшие тесты, и диплом, например, Иерусалимского университета заграницей котируется высоко.
Каким образом эти разболтанные, неприученные к систематическому труду "мами" становятся серьезными людьми, отлично ориентирующимися в море специальной литературы и знающими к а к взять из университетского курса самое важное и нужное для себя — сие для меня пока загадка.
Как загадка и разительное превращение наглого восемнадцатилетнего обалдуя в солдата Армии Обороны Израиля, человека, на которого с первых дней государство взваливает величайшую ответственность за личное оружие, постоянно при нем находящееся — будь то на полигоне, в городском транспорте или ночном баре.
А если этот дикий "мами" на кого-нибудь крепко рассердится? — интересовалась я в первое время, — А если он выпьет? А если он сумасшедший? А если он приревнует к кому-нибудь свою девочку, а личный "бах-бах" свисает с его плеча так кстати?
Я видела однажды драку двух солдат. Возможно, из-за девочки. Они почти одновременно вскочили из-за столика кафе на пешеходной улице Бен-Иегуда и, почти синхронно скинув с плеч винтовки, отбросили их на руки друзей, сидящих рядом. И лишь затем, рванув на груди гимнастерки, бросились молотить друг друга самым отчаянным образом.
После этой сценки я уже не задавала вопросов по поводу ношения оружия обалдуями. Не то чтоб успокоилась, а как-то подчинилась воле судьбы.
Кроме того, люблю наших солдат — это мой маленький личный сантимент. Люблю смотреть, как, обморочно откинув голову и зажав коленями винтовку, они спят в автобусе. Люблю смотреть, как жуя на ходу питу и забрасывая тяжелый баул в багажное отделение, они влетают в переднюю дверь, лупя прикладом по собственной заднице… Недавно, выгуливая пса, я увидела в нашем дворе солдата. До армии ругалась с этим мотеком по поводу полуночных песен под моим окном. Он показался на повороте дорожки. Закинув за спину баул, пошатывался от мертвецкой усталости. Вмиг из стайки играющих во дворе детей с ликующим воплем выпрыгнула его девятилетняя сестра, подбежала, обняла, обхватила его за пояс и повела к подъезду, как ведут сильно пьяных, или легкораненых. Я смотрела им вслед. Они медленно шли к своему подъезду. Он обнимал Сестренку за плечи и шел, прихрамывая… День был не субботний, значит, его отпустили домой за какие-нибудь особые заслуги. Я представила, как долго он добирался от ливанской границы, как ловил под палящим солнцем попутные машины и с каким наслаждением сейчас расшнурует и снимет дома свои рыжие ботинки — знак особых боевых частей…
...А пару месяцев назад и моего собственного обалдуя забрили в солдаты.
Ожидая его домой на субботу, я дежурю у окна и вижу, как из подъехавшего автобуса вываливается долговязый, с бритой головой, солдат и, волоча тяжелый вещмешок, с винтовкой за плечом, устало бредет к нашему подъезду.
— Господи,— восклицает за моей спиной муж, — как ему доверили оружие! Как!? Как?!...